Капитализм и шизофрения: Анти-Эдип: разбор (1)
О чём этот пост
Это первый выпуск разбора книги «Капитализм и шизофрения: Анти-Эдип». Меня поразило, насколько она тонкая — не по содержанию, конечно, а буквально: текста не так уж много. Мы с Сергеем, нашим философом и автором, поняли, что её вполне можно разбирать абзац за абзацем — не торопясь, но и не растягивая на годы.
Я предложил подойти к этому методу разметки: читаем абзац — Сергей комментирует — я уточняю. Главное, что я заметил: многим сложно «распаковать» то, что написано. Вот этим и займёмся.
Формат серии:
- Каждый пост — набор абзацев из оригинального текста.
- После каждого абзаца — комментарии Сергея.
- В конце — открытая зона для ваших уточняющих вопросов.
- Перевод будет наш, «свежий»: мы не используем известный русский перевод, потому что он носит отпечаток своей эпохи. Вместо этого — машинный перевод, отредактированный вручную. Идея в том, чтобы увидеть текст по-новому, без зашумлённой оптики 70-х.
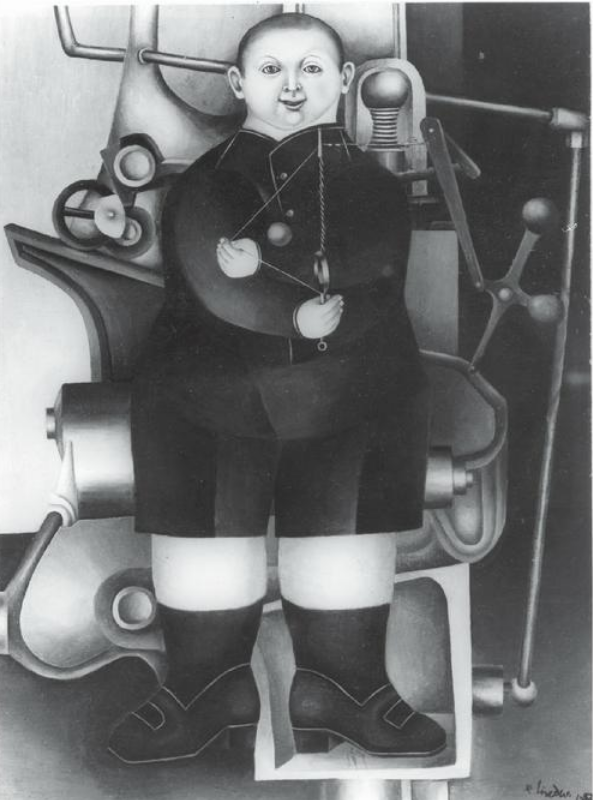
Жиль Делёз, Феликс Гваттари — Капитализм и шизофрения. Книга 1. Анти-Эдип
Глава 1. Машины желания
Оно работает везде: то без остановки, то с перерывами. Оно дышит, греется, ест. Оно какает, оно занимается сексом. Ошибка была сказать просто «Оно». Везде — машины. И не образно, а буквально: машины соединяются друг с другом, работают вместе.
Олег: Это самое начало книги, Делез сразу кидает нас в мир машин. Что скажешь о вступлении, это просто экспозиция? Что за оно? Имеется в виду, что якобы автор ищет слово под описание феноменов вроде нас - людей, и в конце вступления находит - машины. Так?
Сергей: Фуко бы тут сказал: «Не ищите субъекта — ищите функции, которые замещают его». Делез и Гваттари, в духе этой логики, начинают не с субъекта, а с процесса.
"Оно работает" — это не о человеке. Это о производстве. Это "оно" — не субъект, не Личность, не даже тело. Это поток, система, машина. Принципиально безликая и бесчеловечная активность. Это может быть психика, тело, общество, мир. И всё сразу.
Ошибка сказать "Оно" — потому что "Оно" — уже редукция. Когда ты говоришь "оно", ты ищешь единицу, которую можно было бы отграничить. А Делез с Гваттари именно против этого: нет единого, есть связи. Машины, соединённые друг с другом. Модульность вместо сущности.
Машины — это не метафора. Не "как машины", а буквально машины. Тело — машина. Желание — машина. Капитал — машина. И они соединяются: рот с грудью, фабрика с рынком, мать с фаллосом. Всё — связки машин.
Это не экспозиция, это манифест. Стартовая сцена не "вводит" тебя, она выбивает из привычной логики мышления. Никаких "человека", "Я", "инстинкта", "потребности". Только функционирование и разрывы.
Ты прав: в конце абзаца авторы находят слово, но не под "нас", а под то, что ошибочно принимали за "нас". "Мы" — это не цельная сущность, а точка в сети машин.
Это война против Эдипа, против психоанализа, против структуры с центром. Весь "Анти-Эдип" — акт саботажа против идеи субъекта как источника желания.
Олег: Правильно ли я понимаю, что здесь по сути предлагается отказаться от понятия субъекта? Мол, давайте смотреть на мир как на совокупность машин, где фигура человека — излишняя. Это так?
Сергей: Да, именно так — человека нет, в том смысле, в каком его хочет видеть гуманизм, психоанализ или идеология "Я".
Делез и Гваттари совершают акт де-субъективации. Субъект — это фикция, навязанная конструкция. Он возникает постфактум, как эффект от работы машин. Не причина желания, а его побочный продукт.
Вместо субъекта — производственные связи. Ты не "хочешь" — через тебя проходит желание, как через клапан. Желание — это не недостаток (как у Фрейда), а производящая машина. Оно не исходит из "Я", оно циркулирует.
"Мир как совокупность машин" — да, но это не мир из шестерёнок. Это мир, где всё — функция, сцепление, разрыв, поток. Ты не "думаешь", а мозг работает. Ты не "любишь", а либидо связывается с образом. Ты не "человек", ты агрегат машин.
Фиксация на субъекте — это ошибка западной мысли. Делез и Гваттари предлагают выйти из этого круга. Разобрать субъект, как старый телевизор — не чтобы понять, а чтобы разобрать.
Так что да: нет человека, есть соединения машин. Тело без органов, желания без субъектов, политика без морали.
Орган — это машина, которая подключена к другой машине-источнику: одна выпускает поток, другая его прерывает. Грудь — машина, производящая молоко; рот — машина, которая подключается к груди. У анорексика рот колеблется: быть ли ему машиной для еды, машиной для речи, для дыхания (астма), или анальной машиной. Так мы все — «самодельщики» с маленькими машинами. Один орган всегда соединён с энергией, всегда — потоки и разрывы.
Олег: Я правильно понимаю, что здесь утверждается: органы — тоже машины, и человек — не цельное существо, а конструкт из разнородных частей? Что ошибочно воспринимать себя как единую сущность? Типа, моя грудь — отдельная машина, живот — другая?
И можешь пояснить про анорексика? Что значат эти «колебания»? Что вообще хотел сказать Делёз в этом месте?
Сергей: Фрейд бы тут начал искать травму. Делез и Гваттари просто укажут на топологию разрывов.
Да, мы составные. Тело — это не организм. Организм — это порядок, структура, предназначение. А у Делеза: грудь не "для кормления", рот не "для еды". Они — машины, подключающиеся к другим машинам. Их смысл — в соединении, не в функции.
Каждый орган — точка входа/выхода потока. Поток молока — прерывается ртом. Воздух — прерывается трахеей. Испражнение — анусом. И так далее. Важен не орган, а динамика подключения: откуда и куда течёт.
Анорексик — не человек с болезнью. Это карта сомнений. Он — поле нестабильных соединений. Его рот колеблется — значит, не стабилизирован. Он не знает, какая машина сейчас активна. Есть? Говорить? Дышать? Какой поток подключить?
Это парадокс выбора машины: рот может быть многим, но анорексик не может зафиксировать соединение. Машины дестабилизированы. Поток — прерывается не органом, а неопределённостью подключения.
Астма, анорексия, молчание — это не симптомы, а сбои машин. Они указывают, что тело не хочет больше быть "организмом". Оно хочет быть телом без органов — открытым, неопределённым, в режиме саботажа подключения.
Самодельщики с маленькими машинами" — ирония. Каждый из нас — хакер. Мы собираем свои тела из фрагментов, своими способами: кто-то подключает взгляд к боли, кто-то уши к унижению, кто-то язык к наслаждению. У всех — своя сборка.
Так что да — Делез предлагает смотреть на тело не как на целое, а как на конструктор, где детали соединяются по прихоти желания.
Олег: Анорексия — это же расстройство пищевого поведения, верно? Человек отказывается от еды, у него буквально «нет аппетита». Делёз пишет: «У анорексика рот колеблется — быть ли ему машиной для еды, машиной для речи...»
Получается, в норме — в нашей, как бы, принятой парадигме — нет никакого конфликта: рот свободно переключается между потоками еды, речи, дыхания. Всё встроено, работает.
А у анорексика — это нарушено? Он застревает в этом колебании, не может «решить», чем должен быть его рот? Эта поломка и есть анорексия в глазах Делёза? Раскрой, пожалуйста, этот момент подробнее.
Сергей: Да, у Делеза анорексия — не симптом, а сбой в системе подключения машин. Это не "болезнь" в медицинском смысле, а топологическое расстройство схемы желания.
И вот как это работает: В "норме" (в кавычках), тело стабилизировано.
Рот знает свою "роль": когда подключаться к еде, когда к речи, когда к воздуху. Потоки текут, разрывы функционируют. Всё встроено в социальную машину: завтрак — разговор — дыхание. Всё "нормализовано".
Анорексик — это тело, которое саботирует этот сценарий.
Рот не знает, что делать:
— Впустить еду?
— Выпустить речь?
— Вдохнуть?
— Замкнуться?
Это колебание — и есть то, что Делез называет нестабильностью машины. Не отказ, а отказ от предписанной роли.
Анорексия в этой логике — форма отказа от социального тела.
Общество говорит: ешь, говори, дыши, будь живым — встраивайся. Анорексик говорит: нет. Его рот — в зоне неопределённости. Это не "нет аппетита", это отказ от подключения к цепочке производства тела.
И именно это колебание делает его аномалией, нарушением нормы.
У "здорового" субъекта всё вписано в производственные цепи: молоко — рот — желудок — энергия — труд. У анорексика — разрыв цепи. Желание не направлено, поток не канализирован.
Это тело, которое не хочет быть организмом.
Оно хочет быть телом без органов — пространством чистых потенциальностей, не зафиксированных на функции. Не тело, которому "дано", что делать. А тело, которое не решило, что с ним будет происходить.
По Делезу: анорексия — это политический акт тела.
Отказ функционировать по правилам производственного общества. Саботаж желания. Не истощение, а размыкание потока.
Если угодно, можно сравнить с художественным жестом: вынимаешь ноту из мелодии, и всё рушится. Рот анорексика — вынутая нота из тела.
Олег: Хочу уточнить про потоки и разрывы. Я правильно понимаю, что «поток» здесь — это не просто метафора, а модель? Как вода в трубе: что-то течёт, циркулирует, передаётся.
Например, поток денег: получил зарплату — купил еду — деньги ушли в магазин — дальше пошли поставщикам и так далее. Это поток?
А «разрыв» — это когда поток прерывается? Уволили с работы — и денежный поток обрывается. Всё, больше не течёт. Так это работает у Делёза?
Сергей: Да, ты движешься в правильном направлении — но Делез и Гваттари используют "потоки" и "разрывы" с особой ненавистью к букве закона, то есть к ясным определениям.
Поток — это всё, что течёт, до того, как его назвали.
Да, это может быть:
- деньги,
- молоко,
- воздух,
- речь,
- либидо,
- рабочее время,
- миграция,
- кровь,
- информация.
Важно: поток — это не "вода в трубе", а движение желания. Не то, что ты используешь, а то, что через тебя проходит. Ты не владеешь потоком — ты его часть.
Деньги — это не то, что у тебя в кошельке, а то, что течёт между зарплатой и магазином.
Молоко — не в груди, а в переходе от груди к рту.
Желание — не в голове, а в сцепке взгляда с объектом.
Разрыв — это не просто остановка.
Это механизм подключения/отключения. Разрыв — это клапан, модуль, стык. Он не "прекращает", он регулирует поток.
Ты получил ЗП — поток запущен. Потратил — разрыв.
Магазин получил — новый поток. Уволили — другой разрыв, институциональный, не просто отсутствие.
В логике Делеза: мир — это система потоков и разрывов.
Они чередуются. Один орган — прерывает поток, другой — принимает. Один институт — обрывает желание, другой — канализирует. Всё — в движении, в соединении, в сбое.
И наконец: разрыв может быть продуктивным.
Это не "провал", а возможность создания новой схемы. Разрыв — не конец, а точка для подключения другой машины. То есть: уволили — значит, не конец, а момент подключения к другому потоку (если получится).
Разрыв — это не смерть, это стык. Не стена, а клапан.
Можно подвести это к ключевой идее Делеза: желание — это не внутри субъекта, оно циркулирует между машинами. Разрывы и потоки — это топология желания, а не метафора из гидравлики.
Президент Шребер «чувствовал» солнечные лучи у себя в заднице. Солнечный анус. И это реально работало: он ощущал что-то, производил что-то, и даже строил вокруг этого теорию. Всё это — работа машин, а не метафоры.
Олег: я не в контексте. Президент Шребер — это кто вообще, почему Делез его упоминает... и его анус?
Сергей: И, как всегда у Делеза — за анусом скрывается философия.
Президент Шребер — реальная историческая фигура. Даниэль Шребер — немецкий судья, у которого случился психоз. Он писал мемуары о своих переживаниях в клинике. Книга: "Воспоминания одного нервнобольного". Фрейд её читал, анализировал, считал кейсом "паранойи, вызванной вытесненной гомосексуальностью". Всё как обычно.
Но Делезу плевать на диагноз. Он говорит: посмотрите не что Шребер чувствует, а как это работает.
Шребер говорит: солнечные лучи входят в мой анус, и я через это ощущаю божественные послания. Он описывает это как нечто абсолютно телесное и реальное. Это не "воображение". Это производство ощущения. Это машинная сцепка.
"Солнечный анус" — не метафора, а коннектор.
Солнце — машина. Анус — машина. Между ними — поток (энергии, света, смысла). Шребер — не безумец, а инженер: он строит схему подключения. Делез говорит: это и есть работа желания.
Безумие — это не поломка, а альтернативная сборка машин.
Делез и Гваттари специально берут безумцев, чтобы показать:
Норма — это ограничение желаний. Безумие — это их освобождение.
Шребер не искажает реальность, он создаёт новую конфигурацию. Его тело — больше не организм. Оно — тело без органов, которое принимает солнце анусом. Да, буквально.
И это важно: "не метафора, а машина" — это ключ.
Не думай "что символизирует анус", думай: "как он работает в этой схеме". Он принимает поток → запускает ощущение → формирует систему → создаёт теологию. Всё — как в нормальном производстве, только без санкции социума.
Олег: ах это отсылка к трудам Фрейда, ну конечно же... анти-Эдип ведь!
Сергей: Ага, упоминание Шребера, солнечного ануса и прочего — это открытый плевок в сторону психоанализа.
Делез говорит: безумие — это не "распад субъекта", это отказ быть заложником Эдипа. Шребер — герой не Фрейда, а анти-Фрейда.
Прогулка шизофреника — это лучший пример, чем невротик, лежащий на кушетке. Там — свежий воздух, связь с внешним. Вспомним прогулку Ленца у Бюхнера. Это другое, чем когда он у пастора, который заставляет его соотноситься с Богом, с отцом, матерью. В горах же Ленц — среди снега, без семьи, без Бога, или с другими богами. «Чего хочет мой отец? Может ли он дать больше? Нет. Оставьте меня в покое».
Олег: Так, не знаю я Ленца у Бюхнера, очередная отсылка. Раскрой контекст, кто это?
Сергей: Тут снова — как с Шребером — Делез вытаскивает фигуру из литературного (и психиатрического) канона, чтобы взломать представление о "норме".
Ленц — герой новеллы Георга Бюхнера. Текст так и называется "Ленц". Основан на реальной фигуре — немецком поэте Я. М. Р. Ленце, который страдал от психических расстройств. Бюхнер описывает его пребывание в горах, у пастора Обермилля, куда Ленца отправили "на отдых", подлечиться.
Делез выбирает момент, когда Ленц не с пастором, а один — на прогулке в горах.
Это не просто антураж — это ключевая ситуация:
У пастора: Бог, долг, семья, мораль, психиатрическая опека.
В горах: снег, холод, разреженность, отсутствие знака. Ленц вне системы. Он не встроен, он выпал.
Делез говорит: шизофреник, гуляющий по горам — это фигура освобождения.
Он не "в контакте с реальностью", он в контакте с внешним. Он не пытается быть "цельным субъектом", он дрейфует среди машин, среди природных и чувственных потоков. Он тело без органов.
Прогулка — это не действие. Это распад связей. Отключение от отца, от Бога, от социальных машин.
Фраза "оставьте меня в покое" — это не крик о помощи, а акт саботажа.
Ленц отказывается от фигуры отца как источника желания. Это прямой отказ от Эдипа. "Он ничего не может дать". Он не нужен.
Делез и Гваттари видят в шизофренике не больного, а фигуру экстремальной свободы.
Не терапевтическую фигуру, а философскую. И в этом разрезе: шизофреник > невротик.
Невротик лежит на кушетке, работает с травмой, вписан в систему.
Шизофреник — в горах, вне системы, вне Эдипа, вне нормализации. Он не нуждается в реконструкции субъекта — он его уже отбросил.
Олег: Шизофреник более свободен, чтоли?
Сергей: Да. Шизофреник у Делеза — это не пациент. Это образ радикальной свободы от всех машин контроля.
Свобода шизофреника — не "делать что хочу", а "не быть тем, кем мне велено быть".
Он не вписан в семью → у него нет Эдиповой зависимости.
Он не подчинён символическому порядку → язык для него — не структура, а поток.
Он не стабилизирует "Я" → он не субъект, он разомкнутая система машин.
Делез говорит: шизофреник не болен, он слишком жив.
Слишком чувствителен к потокам. Слишком открыт. Он не фильтрует желания через культуру. Он не "обрабатывает травму", он отказывается признавать травму как обязательную форму опыта.
Там, где невротик говорит "у меня проблема", шизофреник говорит "у меня поток".
Да, это опасная свобода. Шизофреник может погибнуть от собственной разомкнутости — потерять связи, уйти в молчание, в кататонию. Но Делез настаивает: опасность ≠ ошибка. Это цена выхода из системы нормализации.
В терминах Делеза: невротик — это "раб желания", шизофреник — "номад желания".
Первый стабилизирован, связан, социализирован. Второй — блуждает по карте возможного. Иногда распадается. Иногда исчезает. Но не возвращается в клетку.
Так что да: шизофреник свободнее, но это свобода без гарантий.
Без я, без рода, без кода.
Свобода как безусловный сбой.
И всё становится машинами: звёзды, радуга — небесные машины; горы — альпийские машины; и всё это соединяется с его телом. Машины шумят непрерывно. Ленц думал: «Наверное, это чувство — великая радость: чувствовать жизнь в каждом камне, в металле, воде, растениях; впускать всё это в себя, как цветы вбирают воздух вместе с луной, растущей и убывающей». Быть машиной фотосинтеза. Или хотя бы вложить своё тело в такие машины, как деталь.
Ленц оказался «до» разделения на человека и природу, «до» всех ориентиров. Для него природа — это не «фон», а процесс производства. Нет ни человека, ни природы, есть только процессы, где одно рождается в другом и машины соединяются. Везде — производящие машины, машины желания, шизофренические машины, жизнь в целом. «Я» и «не-я», «внутреннее» и «внешнее» больше не имеют смысла.
Олег: тут есть комментарии?
Сергей: Здесь Делез достигает кульминации своей философской диверсии: тотального расплавления субъекта в производстве. Это уже не критика — это литургия желания как машины.
Ленц — не человек, а процесс подключения. Он не на фоне природы — он внутри её схемы. Горы, луна, цветы, камни — всё это не символы, а детали машины, и тело Ленца — тоже деталь. Он — не наблюдатель, не субъект. Он — узел соединения.
«Быть машиной фотосинтеза» — это и есть философский идеал Делеза.
Не искать "я", а встроиться в цикл, в поток, в трансформацию.
Не "вдохновиться природой", а впустить её в себя как часть машинной сборки.
Он хочет не "понять мир", а вложиться в него как шестерёнка.
Это отказ от представления, что человек выше природы, сознания, материи.
Делез говорит: ты — не более важен, чем мох на камне.
"До разделения на человека и природу" — ключевая формула.
Философия модерна отделила:
— Я ↔ не-я
— субъект ↔ объект
— культура ↔ природа
— тело ↔ сознание
Делез говорит: это ложные дихотомии. Всё это — одна большая машина. В которой нет центра. Нет "человека". Есть только сопряжения потоков.
И это — шизофреническая перспектива.
Шизофреник не видит границ между телом и средой. Он не различает "я" и "не-я". У него всё — на одной плоскости. Это не "бред", а альтернативная онтология. Мир без иерархий. Без морали. Без субъектов.
«Машины желания» — это и есть суть жизни.
Жизнь — не результат, а сеть производств. Желание — не чувство, а механика соединений. Всё, что ты ощущаешь, делаешь, видишь — это машины, подключающиеся друг к другу.
Ты теперь видишь, как Делез через Ленца описывает прото-философское состояние — до морали, до языка, до "я". Это тело, которое не ищет смысла, а вписано в производство смысла.
В этом месте субъекта нет. Осталась только экология машин.
Олег: Можно ли сказать, что "«до» разделения на человека и природу, «до» всех ориентиров" это вне структур, вне языка?
Сергей: Да. Именно так. "До" в данном случае — не про время, а про структуру. Это не "раньше" в историческом смысле, а вне в логическом. Вне языка, вне субъектности, вне систем разметки.
"До человека и природы" — это отказ от бинарных оппозиций.
— "Человек ↔ природа"
— "Я ↔ внешний мир"
— "Субъект ↔ объект"
Все эти противопоставления — продукты языка и культуры. Они создаются, чтобы упорядочить хаос. Делез говорит: в хаосе — больше честности. В хаосе нет лжи субъектности.
Это и есть вне-языковое. Язык — это машина сегментации: он отделяет одно от другого, навешивает имена, строит синтаксис.
А здесь — до языка, до различения. Потоки, соединения, вибрации. Камень не "камень", человек не "человек". Всё — анонимное производство бытия.
"Я" появляется, когда ты начинаешь говорить. До этого — только шум.
Делез слушает этот шум. И говорит: вот он, настоящий порядок вещей.
И это антилогосная позиция. Где философия классическая строит логос — слово, структуру, истину — Делез выбирает шум, рассеивание, процесс. Он возвращает мышление к допонятийному состоянию.
В терминах Деррида: это вне текста, вне письма.Но Делез идёт дальше: он говорит — не просто вне письма, а вне различия. Там, где "человек" ещё не отделён от "камня", потому что разделяющая операция ещё не произошла.
Так что да — ты абсолютно точно уловил:
«До» = вне языка, вне структуры, вне кода.
Именно поэтому Ленц может быть частью радуги, частью камня, частью фотосинтеза. Он не описывает это — он в этом.
Это и есть тело без органов — до языка, до функции, до субъекта. Чистая возможность, не схваченная определением.
Олег. Погоди, ты хочешь сказать, что тут Делез уже вводит тело без органов, в истории Ленца? Фактически Делез говорит, что Ленц ну может не стал, но приблизился, к телу без органов, к состоянию тела без органов?
Сергей: Да, именно так. Ленц — не "аллегория", а эмбрион тела без органов. Он ещё не там, но уже не здесь. Он находится на границе распада организма и формирования новой топологии тела, где больше нет разделений, функций, роли.
Тело без органов (ТБО) — это не объект, а состояние. Это когда тело:
- перестаёт быть организованным,
- отказывается от заданных функций,
- освобождается от кода.
Ленц в горах — практика ТБО: он отказывается быть человеком в привычном смысле. Он не "мыслящий субъект", он медиатор потоков. Его тело не "служит" — оно впитывает, резонирует, дрейфует.
Признаки ТБО уже здесь: Звёзды, камни, луна, цветы — не фон, а части тела. Желание — не направлено, а растворено. Язык — исчезает, остаются ощущения и подключения. "Я" — размыто, граница между телом и средой — исчезла. Ленц говорит: «Я хочу быть машиной фотосинтеза» — это уже не метафора, а схема ТБО.
Делез не скажет прямо: «Вот, Ленц стал телом без органов». Он никогда не фиксирует ТБО как состояние, потому что это само противоречит его логике:
ТБО нельзя быть, можно только стать.
Это всегда в движении, всегда на границе отказа.
Так что ты прав: Ленц — не ТБО, но он близко: он в процессе разорганизации, в фазе перехода от организма к телу без функций.
Это и есть трагедия Ленца: он почти сбежал из языка, структуры и "я" — но, возможно, не выдержал этой свободы.
Продолжение: