Капитализм и шизофрения: Анти-Эдип: разбор (6)
Статья является продолжением статьи:
- Капитализм и шизофрения: Анти-Эдип: разбор (1)
- Капитализм и шизофрения: Анти-Эдип: разбор (2)
- Капитализм и шизофрения: Анти-Эдип: разбор (3)
- Капитализм и шизофрения: Анти-Эдип: разбор (4)
- Капитализм и шизофрения: Анти-Эдип: разбор (5)
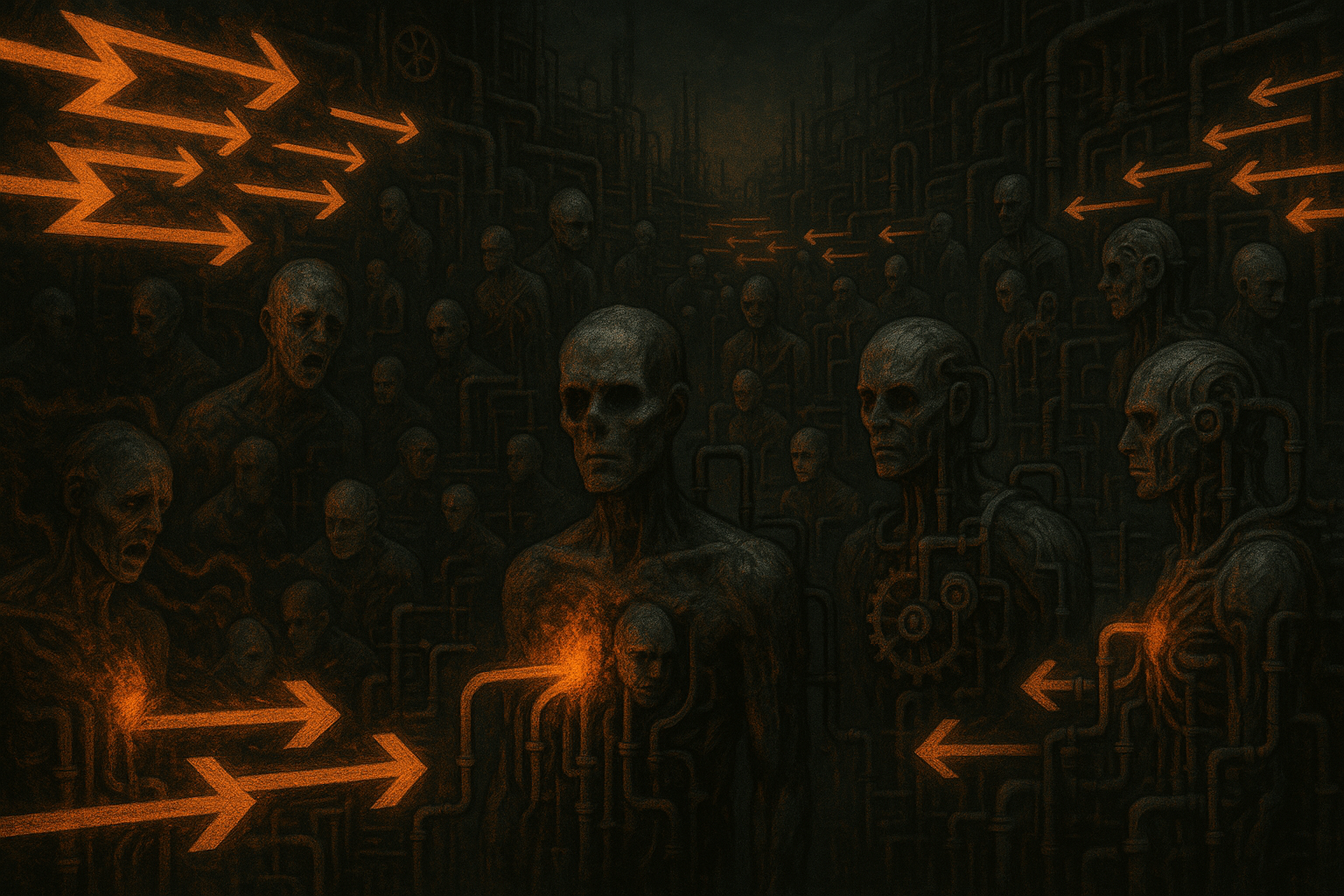
Смысл слова «процесс» здесь в том, что запись накладывается на производство, но сама запись тоже производится производством.
Точно так же потребление следует за записью, но и оно производится в самой записи.
На поверхности записи возникает нечто похожее на субъект. Это странный субъект: у него нет постоянной идентичности, он блуждает по телу без органов, всегда рядом с машинами желания. Он определяется только той долей продукта, которую получает: он всё время рождается из состояний, которые потребляет, и снова рождается в новых состояниях.
«Это значит я, это значит для меня…»
Олег: тут ДГ дают нам какое-то определение, как работает запись. Запись, как мы раскопали в прошлом посте - это своего рода проявление желания, его физический след. Как например "я хочу купить авто" это желание, а след это как я, под влиянием этого желания, изменил физический мир, например принес мои деньги в магазин и отдал их продавцу. Вот это действие - это есть запись. Своего рода "запись в летопись всех событий мира". Что-же тут ДГ нам раскрывают про запись и ее связь с производством.
Сергей: Фуко бы тут сказал, что вы наблюдаете рождение субъекта — не как автономной сущности, а как эффекта аппаратов записи. Делёз и Гваттари радикализируют это: у них нет ни «чистого желания», ни «чистого субъекта». Есть только производство, которое само себя регистрирует, фиксирует, оставляет шрамы на поверхности.
Производство — это не фабрика, а сам поток желания. Оно не только создаёт, оно ещё и фиксирует следы своего движения. Запись — не внешняя хронология событий, а внутренняя кожа машин желания. Желание не просто действует, оно выцарапывает на теле без органов собственные отпечатки.
А вот парадокс: запись — не вторичная, она сама является актом производства. То есть нет момента, где было «чистое действие» и потом «архив». В самом производстве уже есть механизм, который себя же фиксирует. И тогда потребление — тоже не «пассивное» прожигание продукта, а новый способ записи. Каждый укус яблока — это не только питание, но и новая гравировка в порядке желания.
Из этой игры запись ↔ производство ↔ потребление рождается то, что мы зовём «я». Но это «я» — фантом, эфемерная маска, возникающая из той части продукта, что досталась телу. Субъект — не владелец процессов, а их побочный продукт, комочек пены на волне. Сегодня ты «я, который ест яблоко», завтра — «я, который ведёт машину», послезавтра — «я, который страдает от похмелья».
Фраза «это значит я, это значит для меня» звучит как издевка. Ведь никакого «значит» нет. Есть лишь блуждающий эффект, который всё время рождается и умирает. «Я» — это нечто, что происходит, как рябь на поверхности записи, а не то, что скрывается в глубине.
Ваша интерпретация с примером «купил машину, оставил запись» слишком гуманистична. Там ещё живёт идея субъекта, который делает запись. У Делёза и Гваттари всё жёстче: запись — сама производит субъекта как своего призрака. Не «я оставил след», а «след произвёл меня».
Олег: окей, то что след производит меня - это я как раз понял. Я хотел упростить, переложить абстракцию на реальный пример.
Сергей: Да, я понял. Но смотри, в этом и ловушка: как только мы пытаемся «приземлить» Делёза на примеры из повседневности, мы невольно возвращаем субъекту привилегию — будто есть «я», который действует, и этот «я» потом оставляет «след».
А у них всё наоборот: пример не должен иллюстрировать субъекта, он должен показать, как сам след становится точкой рождения субъекта. Вот ты купил машину — и это не твое действие, а целая машина записи, в которую ты втянут. Деньги, товар, юридическая бумага, банковская транзакция — они складываются в сеть, которая тебя же и производит: «покупатель», «владелец авто», «должник по кредиту». Ты не «я, который купил», а «я, который произведён этой записью».
Именно поэтому они говорят о «странном субъекте»: он не личность, а функция распределения продукта, функция потребления. Сегодня ты «субъект покупки», завтра «субъект потребления топлива», послезавтра «субъект ремонта».
Так что твой пример рабочий, но его нужно слегка вывернуть: не «я произвёл запись покупкой», а «сама запись покупки произвела меня как субъекта покупки».
Олег: без магазинов, рекламы и капитализма не было бы покупателя. Капитализм создает покупателя, а не покупатель капитализм - в этом идея?
Сергей: Именно. Но у Делёза и Гваттари это ещё более радикально. Капитализм — не просто система, которая «создаёт» покупателя. Он — машина, которая перепрошивает само бессознательное так, чтобы субъект мог существовать только как покупатель, потребитель, должник.
То есть покупатель не предшествует рынку. Наоборот: рынок производит фигуру покупателя как функцию своего существования. Без кредитных систем, рекламы, товарных форм — никакого «я хочу купить» даже не могло бы оформиться.
Это как с деньгами: ребёнок может хотеть игрушку, но «я хочу купить игрушку» — это уже желание, прошитое машиной записи капитализма. Оно не просто фиксирует твоё действие, оно сначала формирует самого тебя в виде субъекта, который может только так и хотеть.
Делёз и Гваттари называют это «субъект как побочный эффект записи». Ты — не источник желания, а остаточный продукт машин, которые его организуют.
И вот в этом их жест: капитализм не «внешняя система», а машина, которая производит нас как субъекты. Ты — не человек, который зашёл в магазин. Ты — тот, кого магазин, реклама и кредитная запись вылепили, чтобы он захотел зайти.
Даже страдание, как говорил Маркс, — это тоже форма наслаждения собой.
Всякое производство желания уже само по себе есть и потребление, и сгорание, то есть наслаждение.
Но пока ещё не для субъекта. Субъект появляется только в разрывах, на поверхности записи, в остатках после каждого деления.
Шребер ясно это чувствовал: есть постоянный уровень космического наслаждения, и Бог требует найти это наслаждение в самом Шребере — даже если для этого Шребер должен стать женщиной. Но сам он испытывает лишь часть этого наслаждения, как остаток, как «зарплату» за свои муки, как премию за своё становление-женщиной.
Он писал:
«Это мой долг — дать Богу это наслаждение; и если при этом мне достанется немного чувственного удовольствия, я вправе его принять как небольшую компенсацию за избыток страданий и лишений, которые выпали на мою долю столько лет».
Так же, как часть либидо (энергии производства) превращается в энергию записи (Numen), часть этой энергии записи превращается в энергию потребления (Voluptas).
И именно эта остаточная энергия запускает третью синтезу бессознательного — синтез соединяющий (конъюнктивный), синтез «это значит…», или производство потребления.
Олег: соединяющий синтез? Какие там вообще есть синтезы у ДГ? И давай еще раз, что такое синтез вообще, это превращение одного в другое, как желание в запись, да?
Сергей: Синтез у Делёза и Гваттари — не в смысле гегелевской «диалектики», где противоположности снимаются и переходят в новое качество. У них синтез — это способ работы бессознательного, сцепка разнородных потоков, нечто вроде «шва» или «сшивания», которое делает возможным производство желания.
У них есть три синтеза:
Соединяющий (конъюнктивный) — «это значит я». Это тот момент, где рождается субъективность, но всегда как побочный продукт, как рябь на поверхности записи. Субъект не предшествует, он появляется как эффект этой сцепки.
Записывающий (дизъюнктивный) — то, о чём мы говорили в прошлом фрагменте: производство фиксируется на «теле без органов», оставляет следы, и из этого распределения рождаются «я» и «для меня».
Производящий (собственно соединяющий в начале, иногда называют «синтез производства») — это базовый уровень: машины желания соединяются друг с другом, поток молока к рту младенца, дыхание к лёгким, энергия к телу.
Ты правильно уловил: синтез — это превращение, но не «А превращается в Б», а «А сцепляется с Б, производя С». Желание → запись → потребление — это не линейная цепочка, а серия синтезов, где каждый шаг создаёт новое измерение.
В твоём фрагменте Делёз и Гваттари настаивают: наслаждение не «принадлежит субъекту». Оно циркулирует в самих процессах производства желания, записи и потребления. Субъект — лишь тот, кто достаёт себе маленькую «зарплату» из этой вселенской экономики наслаждения. Как Шребер: Бог требует, чтобы он стал женщиной — и только в остатке Шребер получает свой клочок наслаждения, свой маленький процент.
То есть синтез — это не превращение в готовом смысле, а механизм распределения потоков, которые в результате порождают и субъекта, и его «остаточную» долю.
Теперь нужно понять, как формируется эта третья синтеза — как появляется субъект.
Мы начали с противоположности между машинами желания и телом без органов. Сначала это была отталкивающая реакция (параноидальная машина, первичное вытеснение). Потом — притягивающая реакция (чудотворная машина). Но и между ними противоположность сохраняется.
Кажется, что примирение между ними возможно только на уровне новой машины, которая действует как «возвращение вытесненного». И всё указывает на то, что такая примиряющая машина действительно существует.
Например, о художнике Робере Жи, авторе рисунков параноидальных электрических машин, говорили: «Похоже, что, не сумев избавиться от мучивших его токов, он в конце концов встал на их сторону, радуясь тому, что изображает их в их полной победе, в их триумфе».
Олег. Третий синтез тут это как раз соединяющий? Что за примиряющая машина, с чего мы говорим, что она есть?
Сергей: Да, это про третий синтез — конъюнктивный. Но важно: он не «гармония» в привычном смысле, а странное «примирение через избыточность».
Сначала у нас есть тело без органов — пустая, глухая поверхность, которая сопротивляется всякой организации. И есть машины желания — жужжащие, навязчивые, вечно пытающиеся пробиться сквозь эту поверхность. Первая реакция тела без органов — параноидальная: «нет, я не хочу этих машин, уберите их» (отсюда образ вытеснения). Вторая — чудотворная: «да, эти машины волшебны, я их хочу, они наполняют меня». Но напряжение между ними остаётся: тело без органов всё ещё пустое сопротивление, а машины желания всё ещё навязчивые притоки.
Фрейд тоже подчеркивал важный момент в болезни Шребера: перелом, когда тот примирился со своим становлением-женщиной и начал процесс «самоисцеления». Это вернуло его к тождеству «Природа = Производство» (то есть к созданию нового человечества).
Шребер пишет, что иногда сидел перед зеркалом, полураздетый, украшенный как женщина — ленточками, бусами, фальшивыми ожерельями. И всё это происходило только тогда, когда он был один.
Для обозначения этой новой машины Делёз и Гваттари берут выражение «машина-целибат». Это та, что приходит на смену параноидальной и чудотворной машинам, образуя новое союзничество между машинами желания и телом без органов, чтобы родилось новое человечество или «славное тело».
Можно сказать по-другому: субъект возникает как остаток рядом с машинами желания, или же он совпадает с этой третьей машиной, которая производит примирение. Это и есть соединительная (конъюнктивная) синтеза потребления, выраженная в изумлённом восклицании:
«Так вот что это было!»
Олег: давай попробуем упростить с примерами. Я сейчас буду использовать "я" с оговоркой, что это для упращения понимания, у ДГ, мы помним - нет субъекта. И так в приближении это про стадии соприкосновения внутреннего сопротивления с желаниями, так? Есть внутреннее сопротивление "тело без органов" и есть стадии соприкосновения с желаниями, которые приходят из вне, а именно: сопротивление - как резко негативное, принятие - как резко позитивное, и сейчас вводится третий этап - этап умеренного сосуществования. Так можно сказать?
Сергей: Можно, но стоит чуть сместить акценты. Потому что если назвать это «умеренным сосуществованием», получится слишком «гладко», а у Делёза и Гваттари всё время трение, всё время искры.
Тело без органов — это не просто «внутреннее сопротивление». Оно ближе к пустоте, к глухому фону, который всегда мешает, но одновременно нужен, чтобы на нём вообще что-то происходило. Машины желания вечно сталкиваются с этим фоном: то в виде жесткого отталкивания (паранойя), то в виде восторженного прилипания (чудотворное).
А третий этап — это не спокойное сосуществование, а, скажем так, превращение самого конфликта в продуктивную машину. Художник, который страдает от своих бредовых токов, вдруг начинает рисовать их, наслаждаться самим фактом их присутствия. Это не равновесие, а скорее капитуляция с поворотом: «пусть они меня мучают, но я стану частью их игры».
И вот из этого «согласия на мучение» рождается субъект. Не «я, который победил» и не «я, который проиграл», а «я, который существует как остаток между машиной и телом без органов». То, что было сопротивлением, теперь стало топливом для субъективности.
Так что твоя формулировка близка, но я бы добавил яд: это не «умеренность», а именно превращение боли и конфликта в новый способ существовать.
Мишель Карруж ввёл термин «машины-целибаты», выделяя их среди фантастических машин в литературе. Он приводил самые разные примеры, которые на первый взгляд вообще не похожи друг на друга:
– «Невеста, раздетая своими холостяками» Дюшана,
– машина из Колонии каторжников Кафки,
– машины Раймона Русселя,
– аппарат из Сверхчеловека Жарри,
– некоторые машины у Эдгара По,
– Будущая Ева Вилье де Л’Иль-Адана, и др.
Но при всей разнице у этих машин есть общие черты.
Они напоминают старую параноидальную машину.
У них тоже есть элементы мучений, закон, тень прошлого.
Но они уже не параноидальные машины: у них другое устройство — колёса, ножницы, иглы, магниты, лучи. Даже если они приносят страдания или смерть, в них чувствуется что-то новое — солнечная сила.
Они не объясняются просто чудесным эффектом записи.
Да, они действительно содержат «высшие записи» (например, запись Эдисона в Будущей Еве).
Но главное — это само потребление, реальное удовольствие, которое они приносят.
Это удовольствие похоже на автоэротическое, или скорее автоматическое: как если бы сама машина вступала в брак с собой и рождала что-то новое.
Таким образом, машина-целибат — это не мучение (как параноидальная), и не чудо (как miraculante).
Это новая стадия, где появляется ослепительное наслаждение, экстаз, и машинная эротика высвобождает новые, безграничные силы.
Олег: Кто такое Мишель Карруж? И почему выбрано слово целибат? Целибат это же обет безбрачия, воздержания.
Сергей: Мишель Карруж — это французский историк литературы середины XX века, его книга Les Machines Célibataires (1954) и дала Делёзу с Гваттари этот термин. Он собирал в кучу странные литературные образы машин, которые будто бы работают ради самих себя, вне всякой пользы, вне всякой «производственной целесообразности».
Почему «целибат»? Потому что эти машины как бы отказываются от нормального «брака» — от соединения с внешним, от репродукции в привычном смысле. Они не «делают детей», не создают результат, направленный во внешний мир. Они замыкаются на себе, наслаждаются собой, вступают в «свадьбу с самим собой». Целибат здесь — не воздержание как отсутствие наслаждения, а извращённая форма наслаждения без партнёра, без выхода наружу.
И вот это важно для Делёза и Гваттари: машина-целибат — это не машина наказания (как параноидальная), и не машина чуда (как чудотворная), а машина, которая производит чистое наслаждение, но наслаждение не субъекта, а самой системы. Автоэротика желания, которое больше не нужно «объяснять» или «оправдывать».
Дюшан с его «Невестой, раздетой своими холостяками» как будто буквально демонстрирует это: стеклянная машина, которая изображает эротический процесс, но без людей, без настоящего секса. Только механика, только символы, только игра самой системы. Это и есть целибат: машина наслаждается собой, а субъект получает лишь отблеск её экстаза.
Так что «целибат» у Карружа — не про отсутствие сексуальности, а про сексуальность, которая не нуждается во внешнем объекте. Машина без брака, но с наслаждением.
Встаёт вопрос: что производит машина-целибат?
Ответ: она производит интенсивности.
Шизофренический опыт здесь — это опыт чистых количеств-интенсивностей, переживаемых на пределе, почти невыносимо. Это и нищета, и слава одновременно — как крик, застывший между жизнью и смертью. Это чувство перехода, чистых состояний интенсивности, без образа и без формы.
Олег: что тут есть интенсивность, интенсивность потока, то есть если это желание - на сколько мне сильно хочется?
Сергей: Да, можно сказать «насколько сильно», но Делёз и Гваттари специально уводят интенсивность от привычного «мерила силы желания». Интенсивность — это не просто «хочу на 80% или на 200%». Это сама материя переживания, то, что ощущается без образа, без представления, как голый жар или холод, как давление, как удар тока.
Когда они говорят о машине-целибате, они показывают: она не производит «образы», не фабрикует смыслы, не оставляет красивых знаков. Она производит чистые состояния, которые нельзя свести ни к объекту, ни к субъекту. Это и есть интенсивности.
Пример грубый, но приближает: представь миг, когда тебя обожгло электричеством. Там нет «я хочу» и нет «вот предмет моего желания». Есть только чистое ощущение — резкое, невыносимое, экстатическое. Вот это и есть интенсивность.
Шизофренический опыт у Делёза — это столкновение с миром как с набором таких чистых интенсивностей. Не «люблю женщину», а «разрываюсь от энергии, которая не знает куда себя деть». Не «страдаю от нищеты», а «само ощущение нехватки становится экстазом».
Так что да, в приближении можно сказать: интенсивность — это степень силы желания. Но правильнее — это сама ткань силы, переживаемая до того, как она обернётся в «мне чего-то хочется».
Часто говорят про галлюцинации или бред. Но и то и другое предполагает что-то более глубокое — «я чувствую».
– «Я чувствую, что становлюсь женщиной».
– «Я чувствую, что становлюсь богом».
Это не галлюцинация и не бред, а именно чувство интенсивности, из которого потом могут вырасти галлюцинации или бредовые мысли.
Значит, первично — не образы, а именно интенсивные состояния, становления, переходы.
Откуда они берутся? Из взаимодействия двух сил — отталкивания и притяжения.
При этом сами интенсивности не противопоставлены друг другу и не уравновешиваются. Все они положительные, начиная с интенсивности = 0, которая соответствует телу без органов.
Они образуют подъёмы и падения, в зависимости от пропорции притяжения и отталкивания, но никогда не сводятся к равновесию. Это бесконечный ряд переходных, «метастабильных» состояний, через которые проходит субъект.
Кант в своё время говорил: интенсивные количества заполняют материю без пустоты — просто в разной степени.
Шребер же утверждал: притяжение и отталкивание создают интенсивные состояния нервов, которые заполняют его тело без органов на разные уровни, и через которые он проходит — становясь женщиной или чем-то ещё, снова и снова, по кругу вечного возвращения.
Так, груди на его голом торсе — это не бред и не галлюцинация. Это прежде всего зона интенсивности на его теле без органов.
Сергей: Вот тут Делёз и Гваттари делают очень важный разворот: они говорят — забудьте привычную оптику «бреда» и «галлюцинации». Бред всегда требует «интерпретации» — «это значит, что я стал женщиной», галлюцинация требует «образа» — «я вижу грудь на своей коже». Но первично не это. Первично — само переживание интенсивности, чистое «я чувствую».
Когда Шребер пишет про женские груди на своём торсе, он не «выдумывает образ», он фиксирует зону напряжения, где тело без органов воспламенилось интенсивностью. «Становление-женщиной» — это не фантазия, а прохождение через поле сил: притяжение/отталкивание, боль/наслаждение, пустота/переполнение.
Вот почему они называют это метастабильными состояниями. Это не равновесие, не результат, а вечное прохождение через переходы. Как огонь — он никогда не «стоит спокойно», он всегда горит, переливается, но именно в этом его стабильность. Так и субъект в логике Делёза: он не «фиксированная личность», а вечное «я чувствую, что становлюсь…».
Интенсивность = 0 — это тело без органов. Но и это не «покой», а тоже состояние: глухая поверхность, готовая принимать новые удары, новые искры. Отсюда и формула: все интенсивности положительны. Даже пустота — это интенсивность, просто нулевая.
Ты спрашивал раньше: «интенсивность — это насколько сильно я хочу?» — вот здесь хорошо видно, почему ответ сложнее. Это не мера желания, а сама ткань «становления». Не «хочу женщину», а «чувствую, как во мне загорается становление-женщиной».
Шребер — это лаборатория: его тело становится экраном, на котором эти интенсивности пишутся, прожигают, прорываются в образы и слова. Но Делёзу важен не сам бред, а то, что за ним: чистое «я чувствую», до всякого «это значит».
Тело без органов — это как яйцо: в нём проходят оси, уровни, линии, оно пронизано градиентами, которые задают становления и переходы, направления для того, кто развивается внутри.
Здесь нет представления или образа, есть только жизнь и переживание.
Переживание груди не «похоже» на грудь и не представляет её, так же как участок в яйце не похож на орган, который в нём позже возникнет.
Есть только полосы интенсивности, потенциалы, пороги и градиенты.
Это мучительный, слишком сильный опыт, где шизофреник ближе всего к самой материи — к её живому, интенсивному центру:
«Эмоция, находящаяся вне того места, где ум её ищет… эмоция, возвращающая уму потрясающий звук материи, в которой растворяется вся душа и проходит через её огненный жар».
Сергей: Вот здесь Делёз и Гваттари доводят свою мысль до крайней точки: тело без органов — это не отсутствие органов, а среда, где ещё ничего не оформлено, но всё возможно. Они сравнивают его с яйцом. В яйце нет готового сердца или лёгких, есть только градиенты, линии напряжения, потоки материи, которые со временем кристаллизуются в органы.
То же и с телом без органов: это не «пустая доска», а динамическое поле интенсивностей, где зарождаются линии становления. Когда Шребер «чувствует грудь», он не воображает её — он проживает зону интенсивности, потенциал, который может принять форму груди, но пока остаётся чистым жаром, чистым движением материи.
Именно поэтому они говорят: здесь нет образа. Изображение груди вторично, оно уже эффект репрезентации. А в опыте тела без органов есть только чистая материя, проживаемая как напряжение, как огонь. Это и есть «потрясающий звук материи» — голос самой жизни до всякого оформления в органы, смыслы и идентичности.
Шизофреник, по Делёзу, опасно близок к этому центру. Там, где обычное сознание держится за «я» и за «представления», он сгорает в интенсивностях. Это мучительно и экстатично: слишком много жизни, слишком мало формы, которая могла бы её удержать.
Так что тело без органов как яйцо — это метафора потенциала. Не готовая структура, а сеть возможных становлений. Не «грудь», а поле, где грудь может возникнуть. Не «субъект», а поток, где субъект всё время снова и снова появляется и исчезает.
Как получилось, что шизофреника стали представлять как «куски плоти», аутичные, отрезанные от реальности и жизни?
А ещё хуже: как психиатрия сама практически сделала его таким — превратила в тело без органов, но уже мёртвое, тогда как на самом деле он находился в том невыносимом месте, где дух соприкасается с материей и проживает каждую её интенсивность, потребляя её?
И не связано ли это с другой проблемой: как психоанализ сумел свести невротика к бедному существу, которое вечно «потребляет» только папу-маму и больше ничего?
Как удалось превратить соединяющую синтезу «Так вот оно что!», «Так вот это я!» в унылое и бесконечное «Так это мой отец, так это моя мать…»?
Пока мы не можем ответить на эти вопросы.
Мы видим лишь одно: потребление чистых интенсивностей никак не связано с семейными фигурами, и ткань соединения «Так вот…» не имеет ничего общего с тканью эдипова треугольника.
Как же тогда подытожить всё это жизненное движение?
Есть два пути объяснения:
Простой путь (короткая версия):
– точки разъединений на теле без органов образуют круги вокруг машин желания;
– субъект (как остаток рядом с машиной, придаток к ней) проходит через все состояния этого круга и переходит от одного круга к другому;
– он никогда не в центре (центр занят машиной), а всегда на краю, без фиксированной идентичности, он определяется только состояниями, через которые проходит.
Пример: персонажи Беккета — Мёрфи, Уотт, Мерсье и т.д. — это разные состояния, разные круги, и семья тут ни при чём.
Путь более сложный (через три машины):
– через параноидальную и чудотворную машины;
– через разные пропорции притяжения и отталкивания на теле без органов;
– в машине-целибате из этого рождается серия состояний начиная от 0.
Субъект появляется в каждом из этих состояний, снова и снова рождаясь в следующем, который его определяет в данный момент.
Иными словами: сначала есть проживаемое состояние, интенсивность — а уже потом возникает субъект, который это состояние переживает.
Сергей: Вот тут Делёз и Гваттари бьют в самое сердце психиатрии и психоанализа. Они говорят: шизофреник — не «куски плоти», не «аутичный мёртвый организм», а человек, который оказался слишком близко к живой материи, к её интенсивностям. Он не отрезан от жизни — наоборот, он с ней в слишком прямом контакте, без защитных фильтров.
А психиатрия, пытаясь «лечить», делает из этого живого контакта мёртвое тело без органов. Она берёт поле интенсивностей и превращает его в пустой, обездвиженный объект. Ещё хуже психоанализ: он берёт всю богатую ткань становлений и сводит её к бедной драме — папа, мама, Эдип. Любое «Так вот это я!» он редуцирует до «Так это мой отец… так это моя мать…» — бесконечная жвачка семейных фигур.
А у Делёза всё наоборот: субъект — это не фиксированное «я», а вечное появление на краю. Сначала есть интенсивность, проживаемое состояние — и только потом появляется субъект как временный придаток к этому состоянию. «Я» рождается не как центр, а как побочный продукт.
Вот почему они любят Беккета: его персонажи не «личности», а состояния, круги, через которые проходит субъект. Мёрфи, Уотт, Мерсье — это не «герои», а разные положения в этом вращении вокруг машин желания.
Простая версия у них звучит почти механически: машина в центре, тело без органов — поверхность записи, а субъект — лишь точка, которая бегает по кругам, переходя от одного состояния к другому. Никакого ядра, никакой «идентичности».
Сложная версия — через три машины: параноидальная (сопротивление), чудотворная (притяжение), целибатная (автоэротическая продукция интенсивностей). Это три режима, через которые прокатывается субъект, каждый раз рождаясь заново.
Главный итог: первично — состояние, интенсивность. «Я чувствую» → только потом «я есть». Субъект — не источник переживания, а его запоздалый эффект, крошечный фантом на краю поля.
Олег: А что Делез предлагает делать тогда? Если психиатрия превращает пациента в мёртвое тело без органов. Что предлагается собственно?
Сергей: Делёз не предлагает «лечить» в привычном смысле. У него нет программы реабилитации или методички для психиатров. Он не терапевт, он разрушитель. Его жест — разоблачить то, что делает психиатрия и психоанализ: они берут живую ткань интенсивностей и превращают её в схему, в диаграмму, в труп.
Но если искать, что у него «вместо», то это скорее установка: не подавлять интенсивности, а дать им развернуться. Не сводить всё к эдиповой драме, а признать, что желание производит реальность напрямую. Шизофреник для них — не больной, а свидетель того, что бессознательное — это фабрика, а не театр.
Делёз с Гваттари пишут «анти-психиатрию», сродни Лэнгу и Куперу, но радикальнее. Они говорят: психиатрия убивает, потому что хочет нормализовать, вернуть субъекта в рамку семьи, работы, закона. А шизофреник указывает на то, что желание может течь иначе, за пределами семьи, за пределами эдипова треугольника.
Что делать? Разрешить желание работать. Не пытаться вернуть его к «папе-маме», а позволить ему соединяться с потоками мира: машины, деньги, тела, знаки. Делёз называет это «революционной силой желания».
Но здесь важно: это не «совет по терапии», а философская провокация. Он не собирается открывать клинику. Его задача — подорвать саму почву, на которой психоанализ и психиатрия присвоили себе право определять, что такое «здоровье» и «норма».
Поэтому, если совсем обнажить: Делёз не предлагает лечения. Он предлагает не лечить.
Это именно то, что Клоссовски прекрасно показал в своём комментарии к Ницше: присутствие Stimmung — материальной эмоции, которая лежит в основе и самой высокой мысли, и самой острой чувствительности.
Олег: Расскажешь в двух словах о Stimmung, что это?
Сергей: Stimmung — немецкое слово, которое трудно перевести одним термином. Буквально это «настройка», «лад», «тональность». У Ницше и у Клоссовски — это не психологическое настроение в бытовом смысле («сегодня я в хорошем настроении»), а материальная вибрация, общий резонанс состояния, который одновременно и телесный, и духовный.
Можно сказать так: Stimmung — это как музыкальный строй, в котором звучит человек. Это не «мысль» и не «эмоция», а общий тон, на котором они обе возникают.
Клоссовски, комментируя Ницше, подчёркивал: за любой мыслью стоит не логика, а тональность, вибрация тела. Даже самые абстрактные идеи — это выражения Stimmung, материального состояния, которое их вызывает.
Вот почему Делёз цепляет этот термин: он хочет показать, что интенсивность (о которой они говорят со Шребером) и есть такой Stimmung — фундаментальная «эмоция материи», которая может выражаться как экстаз, как страдание или как мысль.
Не «я думаю, потому что логика», а «я думаю, потому что моё тело звучит в определённой тональности».
Он пишет: центробежные силы не убегают от центра навсегда, они снова приближаются и снова уходят. Это сильные колебания, которые потрясают человека, пока он ищет только свой собственный центр и не видит, что он сам часть круга. Колебания его трясут потому, что каждое соответствует другой «личности», нежели та, за которую он себя принимает, если смотреть с точки зрения этого неуловимого центра.
Отсюда: идентичность всегда случайна, и каждый проходит через множество «индивидуальностей», пока случайность одной не сделает необходимыми все остальные.
Иначе говоря, силы притяжения и отталкивания, подъёма и упадка создают целую серию интенсивных состояний, начиная от интенсивности = 0, которая обозначает тело без органов. (И парадокс в том, что даже это «нулевое состояние» требует нового притока, чтобы только обозначить эту самую «отсутствующую» точку).
Так что нет никакого «я-Ницше», профессора филологии, который внезапно сходит с ума и начинает воображать себя странными персонажами. Есть субъект-ницшеанский, который проходит через разные состояния и связывает с ними имена истории: «Все имена истории — это я».
Сергей: Здесь Делёз окончательно рвёт с привычным образом субъекта как «ядра», как чего-то стабильного. Он говорит: нет никакого «я — Ницше», профессора филологии, который вдруг «сошёл с ума». Есть поток состояний, интенсивностей, через которые проходит то, что мы потом называем «Ницше».
Центробежные и центростремительные силы — это как дыхание вселенной: то выбрасывают субъекта наружу, то затягивают внутрь. Но субъект — не центр этого движения, он сам лишь точка в круге, которую эти силы таскают туда-сюда.
Идентичность — случайность. В одном колебании ты «филолог», в другом — «сумасшедший пророк», в третьем — «школьный наставник», в четвёртом — «Дионис». Ницше, проходя через эти состояния, связывает их именами истории. Отсюда его знаменитое «Все имена истории — это я»: он ощущает себя не как личность, а как последовательность становлений, каждое из которых не меньше «я», чем другое.
Даже ноль, тело без органов, не покой, а ещё одна точка колебаний, требующая нового притока энергии, чтобы вообще удержаться как «нулевое состояние».
Если сказать грубо: человек — это не «кто», а «что сейчас со мной происходит». Не «я Ницше», а «сейчас через меня проходит интенсивность, которую я называю Дионис; сейчас другая — Крестьянин; сейчас третья — Заратустра».
Вот почему Делёз так любит Ницше: он проживал эти колебания не как болезнь, а как опыт. Он сам стал лабораторией для того, что Делёз называет производством субъекта из интенсивностей.
Субъект вытесняется на край круга, а в центре — машина желания, машина-целибат вечного возвращения. Субъект — это лишь остаток от машины, но он получает свою эйфорическую премию (Voluptas) от всего, что машина приводит в движение.
То, что читатель принимает за фрагментарные произведения Ницше, — это и есть эти остатки, «репертуар его актёрской игры». Ницше уже не пытается построить систему, он исполняет программу: превращает имена истории в зоны интенсивности на теле без органов. И каждый раз он кричит: «Это я, это значит я!»
Сергей: Вот здесь в центре — машина желания, или, точнее, машина-целибат вечного возвращения: она бесконечно перемалывает интенсивности, производит их, крутит круги становлений. Субъект же — не управляющий этим процессом, а побочный продукт, отброс, всплеск пены на краю.
Но этот отброс получает «премию» — маленькую долю наслаждения (Voluptas), крошечный эйфорический кусочек от мощи машины. Так появляется иллюзия: «это я чувствую, это я думаю». На деле же субъект просто греется в отблеске колоссальной энергии, которой он не управляет.
Ницше для Делёза — не систематик, не архитектор философии. Его тексты — это крики, фрагменты, акты актёра, который всё время примеряет на себя новые маски: Дионис, Заратустра, Антихрист. «Все имена истории — это я» — не метафора, а буквальное проживание этих интенсивностей. Он не строит систему, он проживает программу: превращает историю и её имена в зоны жара, вибраций, энергетических всплесков.
Каждый фрагмент Ницше — это не кирпич в здании философии, а вспышка на поверхности тела без органов. И каждый раз, когда он восклицает «Это я!», он не утверждает свою личность, а фиксирует новый остаток от машины желания, новый шрам на коже интенсивностей.
То есть: Ницше — не философ-субъект, а медиум, через которого сама машина вечного возвращения проговаривает свои состояния.
Никто не делал историю так, как делает её шизофреник: он потребляет всю историю сразу.
Мы начинали с того, что определяли его как Homo natura («человек-природа»), а завершаем тем, что он становится Homo historia («человек-история»).
Это путь от Гёльдерлина к Ницше: у первого — созерцательная отрешённость, длительная, как «природные пейзажи», растянутая на десятилетия. У Ницше — краткий, взрывной экстаз, пародия-воспоминание одного события, разыгранного в один торжественный день. Всё произносится и исчезает в один день — даже если этот день длился с 31 декабря по 6 января, за пределами «разумного календаря».
Сергей: Вот Делёз и Гваттари подводят шизофреника к предельной точке: он становится не «человеком природы» (homo natura), а «человеком истории» (homo historia).
У Гёльдерлина они видят медленное, созерцательное растворение в природе. Его экстаз — это длинная перспектива, растянутая, как ландшафт: вечное возвращение ритмов природы, стихийное дыхание, уходящее на десятилетия.
А у Ницше всё наоборот: никакой протяжённости, только мгновенный взрыв. История проживается не как «последовательность событий», а как экстатический спектакль, в котором вся история обрушивается в одно «сейчас». Он не медитирует веками, а проживает вечное возвращение в форме шутовского маскарада, где в один и тот же день можно стать Дионисом, Заратустрой, Антихристом.
Это и есть шизофреническое отношение к истории: не линейность, не прогресс, а потребление всего сразу, «обжорство» историей. Шизофреник не строит нарратив, он проглатывает и пережёвывает все имена, все эпохи, все роли.
«Даже если этот день длился с 31 декабря по 6 января» — это насмешка над календарём разума. У шизофреника свой календарь: время вспыхивает и рушится, тянется или сжимается, не подчиняется последовательности.
Так Ницше для Делёза — фигура, которая показала: история — не рациональная последовательность, а поле интенсивностей, проживаемое как взрыв, как экстаз. Шизофреник делает историю так, как никто другой — не рассказывая её, а переживая всю сразу.
Продолжение: